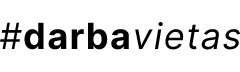— Сегодня в утренних новостях (мы разговариваем 18 октября, — Л.О.) сказали, что в штаб-квартире ООН представители Ирака и Латвии подписали соглашение об установлении дипломатических отношений. Иракский дипломат выразил благодарность Латвии за поддержку в освобождении Ирака и установлении там демократии. Каким было ваше ощущение, когда вы ехали в Ирак? Была ли мысль, что вы едете освобождать страну, вводить там демократию?
— Когда ехал туда, знал, что освобождать уже некого. Нет, мысль о том, что я освободитель, не была основной. Американцы уже все сделали. Было сознание того, что надо сделать главную работу — устранить последствия войны и вернуть общество к нормальной повседневной жизни. Война к тому моменту теоретически уже закончилась. Режим — свергнут. Наступил тотальный вакуум власти. Латвию пригласили участвовать в коалиции, поддерживать в стране порядок. Мы выполняли полицейские функции — сдерживали натиск криминальных структур. Помогали и на чисто бытовом уровне.
— И как изменилось восприятие там, когда началась работа? Восприятие жизни, людей, мира, хороших и плохих?
— На самом деле, я мог бы чисто профессионально сказать, что первые три месяца было ужасно интересно. С таким объемом работы, который нам предстоял, мне кажется, рядовой гражданин в своей жизни вряд ли когда-нибудь сталкивался. У меня был свой район ответственности — 8 городков: чуть поменьше, чуть покрупнее. Вот тебе поле деятельности, работай со своими. Как понимаешь — так и работаешь. Все руководство зависит от тебя, от твоего понимания порядка вещей.
— То есть свобода?
— Абсолютная. Абсолютная свобода как в вопросах безопасности, управления, так и в хозяйственных делах. Ты управляешь этой конкретной территорией. Множество разных проектов восстановления инфраструктуры — все это мое; сколько можешь сделать, столько и делаешь. В тот период финансовые ресурсы на различные проекты восстановления инфраструктуры были практически неограниченны. С января по начало апреля мы успели потратить на бесчисленные проекты более 2,5 млн. долларов. Так что в моих руках была и законодательная, и судебная, и исполнительная власть.
В этих городах создана условная структура управления с мэрами, назначенными со стороны сил коалиции. Я прихожу к ним, чтобы вместе договориться о порядке взаимодействия, что и как надо сделать, сроки. Это была невероятная ответственность. Но было интересно. Первые месяцы мы помогали Ираку возрождаться после войны, приводить в порядок государство, помогали людям решать жизненно важные хозяйственные и бытовые проблемы, помогали поддерживать легитимность новых структур управления и безопасности.
Мой опыт? Там создается модель управления по типу западных городов, тогда как в Ираке самое главное — племенные, клановые связи. Твое жизненное пространство, твой клан — главное в любом деле и при любой оценке.
Например, тебя назначили мэром города, но ты не принадлежишь к главенствующему клану. Так вот, если ты не найдешь общего языка со старейшиной этого рода, или шейхом, тебя никто не будет слушать, несмотря на твой пост. Занимаемый пост не дает тебе реальной власти над жителями, и это было одним из самых сложных моментов. Надо было считаться не только с мнением официальных структур государственного управления, но и с мнениями старейшин самых больших племен, которые нередко не совпадали с официальной позицией. Там нет речи о демократии, там нет речи даже о каком-то правопорядке. Если ты в один прекрасный день как представитель сил коалиции арестовал кого-то за противоправные действия, на следующий день он уже на свободе, ибо, как оказалось, принадлежит к тому же роду-племени, что и начальник полиции на конкретной административной территории. Так вот, если шейх и глава города, или начальник полиции, — не одно и то же лицо, все это просто не действует. Племенные связи, а не какая-то административная или другого рода иерархия — вот что первично. Исходя из этого и надо создавать механизмы государственного управления и структуры. Такую структуру общества мы все равно не разрушим.
Конечно, мы можем ввести какие-то технологические и экономические новшества западного мира, мы можем разрешить женщинам под паранджой носить короткую юбку, но серьезные идеологические изменения? На мой взгляд, они невозможны. Поэтому, исходя из существующей модели общества, надо придумать, как это общество может собой управлять.
Люди там радушные, у нас таких трудно найти. Если ты сделал человеку что-то хорошее, он все время будет об этом помнить, помогать тебе, будет угощать и почитать тебя. На мой взгляд, то, что нам удалось создать очень хорошие отношения с местными жителями, то, что первые три месяца мы тяжело работали, чтобы повысить безопасность и наладить быт, помогло нам выжить в последние три месяца после апрельских событий.
Последние три месяца были интересны, но ненормально тяжелы. Спать людям удавалось, в лучшем случае, по четыре-пять часов. Была ли это война? Можно, конечно, сказать, что войны там не было, но если в тебя стреляют, и ты стреляешь в ответ, я назвал бы это войной. Сама по себе эта миссия отличалась от всех прежних, в которых участвовала Латвия. Взять Боснию или Косово — там были две или три воюющие стороны, а между ними — мы, и мы пытались стабилизировать их отношения. А здесь есть они, и есть силы коалиции. С одной стороны — мы, с другой — они. Миссия была концептуально иной, нежели все прежние.
— Какие следы оставляет в людях война, как они меняются, чисто психологически, в таких ситуациях?
— Трудно сказать, как все сложится со временем. Да, я мог бы сказать, что первые два месяца по возвращении прошли в полной эйфории. Ты жив и все твои люди живы, ты дома со своими родными. А теперь я ловлю себя на мысли, что в голове то и дело мелькают иракские картины.
Трудно сказать, что будет дальше с моими сослуживцами. Я думаю, верю и надеюсь, что никаких драматических исходов не будет. Если говорить об отношениях, то критические ситуации, когда ты понимаешь, что один не можешь ничего, что должен полагаться на людей, которые тебя окружают, — они, конечно, сплачивают. Шесть месяцев прожить в коллективе из 100 человек, видеть одни и те же лица каждый день, зная, что не можешь ни на минуту от них отключиться, отдохнуть, это довольно тяжело. Но у нас не было серьезных проблем во взаимоотношениях, как это могло бы быть в мужском коллективе. Думаю, что все события и условия, в которых мы находились, еще больше сплотили всех нас.
***
Вспоминаю другой разговор.
Недавно я беседовала со своей коллегой из США, ярой пацифисткой, "антибушисткой", участвовавшей в мирных демонстрациях, протестовавшей против войны в Ираке и Буша. Я ей сказала, что у нас с пацифизмом пока неважно. В Америке в 2003 году был невероятный расцвет пацифизма. Мы говорили о том, почему Латвия участвует в этой войне, когда большая и сильная Европа говорит ей "нет".
Что мешает сопротивляться войне — любой войне — в Латвии? Может, дело в демократии, в ее дефиците у нас? Спина у нас согнутая.
Демократия — это прямая спина.