



Снежным и морозным утром 16 февраля 1976 года в Риге произошла самая трагическая катастрофа в истории латвийских железных дорог. Скорый поезд, который шел из Ленинграда в Ригу, столкнулся с двумя локомотивами, двигавшимися ему навстречу. Погибли 46 человек. Виновными были признаны стрелочницы и дежурная по станции, три молодые женщины. Однако причины, которые привели к крушению, оказались гораздо глубже. Delfi рассказывает историю катастрофы скорого поезда "Балтика".
В воскресенье, 15 февраля, в Риге было холодно: термометры показывали -15 градусов, но синоптики обещали, что к понедельнику станет чуть теплее: до "минус пяти". Ночью шел сильный снег, дороги и мосты замело. К утру завалило снегом и маленькую железнодорожную станцию "Югла".
К станции приближался фирменный поезд "Балтика", следовавший по маршруту "Ленинград — Рига". Пассажиры готовились выходить: многие уже сидели в верхней одежде, кто-то накинул китель и вышел покурить в тамбур. Говорили, возможно, о хоккее или фигурном катании: эти виды спорта в СССР были почти что религией. Только что завершились Олимпийские игры в Инсбруке, и в воскресенье вечером Центральное телевидение показывало церемонию закрытия, а перед этим - показательные выступления по фигурному катанию. Советские фигуристы выиграли две золотые и две серебряные медали. Хоккейная сборная снова стала первой.
Железнодорожное руководство тоже, вероятно, пребывало в хорошем настроении. Коллектив Прибалтийской железной дороги только что стал победителем Всесоюзного социалистического соревнования по итогам работы в четвертом квартале 1975 года. "Труженикам магистрали присуждено переходящее Красное знамя Министерства путей сообщения СССР и ЦК отраслевого профсоюза. Хороший старт взяли железнодорожники Прибалтики и в десятой пятилетке", - бодро сообщала газета "Циня".
"Нас принимают на занятый путь"
“
"Мы с мужем проснулись от сильного грохота. Жили на улице Балтэзера, возле переезда, - вспоминает Лариса. - Выглянули в окно и увидели, что стоит поезд, и один вагон как бы встал на дыбы и залез на второй. Оделись и пошли посмотреть, что случилось. Сначала было тихо, потом начались крики".
Поезд "Балтика" на полном ходу врезался в локомотивы, которые двигались ему навстречу.
Ирине в феврале 1976-го было 14 лет. "Мы сидели на уроке. Восьмой класс, 63-я школа, - вспоминает она. - Услышали грохот. Сначала не поняли, что произошло. Мне кажется, школу даже специально закрыли, чтобы дети не побежали смотреть. Мы из окон видели, как ехали одна за одной скорые, очень много".
На работу на станции "Югла" заступает новая смена. Это четыре человека — дежурный по станции (он находился в здании), один стрелочник на первом посту возле улицы Балтэзера и два стрелочника (старший и младший) на второму посту около переезда на улице Маркалнес.
8.00.
На второй путь станции "Югла" из Стренчи приходит грузовой поезд № 3121: два тепловоза, которые тащат 50 вагонов с торфом. Локомотивы должны были проследовать в локомотивное депо "Рига", а вагоны – на ТЭЦ-1. Однако на станции "Югла" была особенность: тепловозы сначала нужно переместить на соседний путь. Перед этим машинист на локомотиве должен доехать до хвоста состава и снять фонарь (он сигнализирует о том, что это конец состава). Он не может дойти пешком: фонарь очень тяжелый, длина состава 600 метров, а инструкция предписывает, каким именно должен быть порядок действий.
8.09.
Поступает указание перенаправить тепловозы № 6614 и 7688 на первый путь. Но стрелка не срабатывает. Стрелочница тщетно пытается перевести ее вручную, а затем, никому ничего не сказав, в 08.26 идет на пост за метлой, чтобы почистить стрелку от снега. Грузовые вагоны остаются на втором пути. Позже их увезет специальная техника.
8.24.
Дежурная по станции дает указание старшей стрелочнице подготовить третий путь для приема скорого поезда "Балтика". Согласно материалам расследования, она сказала следующее: "Подготовьте маршрут для принятия поезда №37 на третий путь и отправку локомотивов по первому пути в Чиекуркалнс". Старшая стрелочница передает стрелочнице: "По первому пути не пойдет, пойдет по третьему". При этом по инструкции она должна была повторить то, что ей передали. Дежурная по станции выходит на улицу и видит, что путь свободен. Поскольку она получила сообщение от стрелочницы на первом посту, что путь свободен, а маршрут готов, дежурная открывает разрешающий сигнал на третий путь для поезда "Балтика".
8.35.
Локомотивы выезжают, и примерно в это время дежурная по станции понимает, что сейчас на одном пути окажутся два состава. Дежурная по станции тщетно пытается дозвониться до машиниста поезда "Балтика". До столкновения остается 250 метров. Машинист, согласно инструкции, передает: "Нас принимают на занятый путь". Затем дает команду помощнику спрятаться в машинном отделении, применяет экстренное торможение и прыгает следом за ним. Так же поступают машинисты локомотивов.
Согласно материалам дела, до применения экстренного торможения скорость поезда "Балтика" составляла 74,8 км/ч, скорость локомотивов – 22 км/час. К моменту столкновения они замедлились до 64,6 км/ч и 8-9 км/ч.
Согласно материалам дела, до применения экстренного торможения скорость поезда "Балтика" составляла 74,8 км/ч, скорость локомотивов – 22 км/час. К моменту столкновения они замедлились до 64,6 км/ч и 8-9 км/ч.
8.40.
Происходит столкновение локомотивов и поезда. После столкновения локомотивы и состав поезда остаются стоять на рельсах, но от сильного удара разрушается сцепка второго и третьего вагонов. Второй вагон падает сверху на третий, раздавливая его своим весом. Все, кто находился в третьем вагоне, погибли - всего 46 человек: пассажиры и работники поездной бригады. Еще 61 пассажир получил травмы, шестеро из них – тяжелые.
8.41.
Около 9 часов утра.
На Центральном вокзале передают объявление о том, что поезд задерживается по техническим причинам. На станцию "Югла" со всего города съезжаются скорые, милиция. Вокруг места катастрофы выставлено оцепление из военных. Начинаются спасательные работы.






станция "Югла"
2 пост стрелочников на ул. Маркалнес
1 пост стрелочников на ул. Балтэзера
пассажирский поезд "Балтика"
локомотивы
грузовые вагоны
замерзшая стрелка
1 путь
2 путь
3 путь
“
"Я был на уроке химии, на первом этаже 63-й школы, - вспоминает Юрий Михайловский, которому тогда было 16 лет. - Мы с одноклассниками успели выйти, как только перемена началась, потом школу закрыли. Минут через пятнадцать, когда ещё не было оцепления, я был на месте катастрофы. Вид был шокирующий. Второй вагон встал на третий и спрессовал все перегородки вместе с людьми в гармошку до дальнего тамбура. Потом этот верхний вагон сняли и начали в самосвалы загружать тела, вещи, окровавленные матрасы. В том вагоне, который был внизу, помогать уже было некому".
Анатолий Гудин в 1976 году занимал пост начальника 1-й Рижской дистанции сигнализации и связи. Он был на месте катастрофы минут через двадцать - и до сих пор, рассказывая об увиденном, не может сдержать слез. "Пришел утром на работу, сел за стол. Вдруг дежурный сообщает, что на станции "Югла" произошло крушение. В тот день у нас был аванс: бухгалтер собирался ехать в банк за деньгами. Поэтому у меня был "уазик". Примерно уже через минут 20 я был на месте", - говорит он.
На подножке третьего вагона, превратившегося в братскую могилу, уже стоял начальник Рижского отделения железной дороги Роман Горький. Рядом - растерянные машинисты локомотивов грузового поезда. Им удалось уцелеть. "Чтобы добраться до людей, надо было резать вагон. Погибших было много. Помню, как потом от вагона остались только колеса и платформа. Очень страшная картина. Никогда в своей жизни не видел столько скорых. Наверное, все, кто были в городе, были в то утро там", - говорит Гудин.
“
"Приехала армия, всех оттеснили. Люди издалека смотрели, - вспоминает Лариса. - Потом появились "волги", "чайки" - правительство подъезжало. Помню, буфетчица бегала с перевязанной головой. Два машиниста стояли рядом - успели спрыгнуть. Сказали, что «это как будто смерти в лицо смотреть», потому что они ничего не могли сделать. Этот поезд у нас не останавливался, он проходил мимо, поэтому он шел на скорости напрямую.
Говорят, что травмы получили даже те, кто находился в дальних вагонах. Некоторые ведь уже готовились выходить, поезд практически прибывал. От удара они все попадали. У нас в соседнем доме хрусталь посыпался, стекла треснули. Такой удар был. В местной поликлинике, сейчас она Югльская, а тогда была 12-ая, мобилизовали всех врачей. Они принимали пострадавших. Санитары на месте бегали все в крови в этих своих фартуках. До часа ночи вагоны разбирали».


По счастливой случайности выжили два человека, которые в момент столкновения находились в тамбуре третьего вагона.
"От третьего вагона один пол остался. Он "гармошкой" был снесен к тамбуру, и там поднялся вверх. Тамбур остался целым, и благодаря этому двоим удалось спастись. Люди говорили, что спаслись девушка – она в этот момент находилась в туалете, и мужчина, который в тамбуре курил. Помню, у него были штаны с лампасами, какой-то чин военный. Ему одеяло накинули", - вспоминает Лариса.
“
"У моего друга, однокурсника, в этом поезде ехала старшая сестра, - рассказывает Сергей Булгаков. - Она жила в Риге, работала в милиции. В момент столкновения она была в туалете, который остался целым в том раздавленном вагоне. Там еще проводница ждала ее, чтобы закрыть туалет, потому что санитарная зона. Этот вагон просто "не доехал" до тамбура, и это спасло ей жизнь. А остальное там, конечно, была мясорубка полная".
"Зевак собралось очень много. Наверное, со всего нашего района люди сбежались", - говорит Елена Иванова. Она вместе с мамой пришла на станцию после школы, в середине дня. "Ни пострадавших, никакой крови уже к той поре не было. Все давно оцепили военные. Мы видели лишь часть состава: один вагон на другом. Знаете, как будто один айсберг подмял под себя второй". По ее словам, уже тогда пошли разговоры о том, что причиной катастрофы стала ошибка стрелочников.

Катастрофа, которую "не заметили"
О крупнейшей в истории Латвии катастрофе на железной дороге не сообщило ни одно издание в ЛССР и СССР.
Заметка в издании "Ригас Балсс", №41 (19.02.1976), источник: periodika.lv
Катастрофа, которую "не заметили"
О крупнейшей в истории Латвии катастрофе на железной дороге не сообщило ни одно издание в ЛССР и СССР. На следующий день в сводке рижских происшествий появилась информация об одном "крупном дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал один человек". На перекрестке улиц Бирзниека-Упиша и Кирова водитель, управлявший "Москвичом", на скользкой дороге не справился с управлением и сбил на тротуаре женщину.
Зато из газет можно было узнать о то, что совхоз "Рига" собрал первый урожай огурцов намного раньше, чем в предыдущие годы; что завершена программа совместного полета беспилотного корабля "Союз-20" и орбитальной станции "Салют-4"; во Франции вновь повышены цены на хлеб, а в ФРГ - на картошку и свежие овощи; а части армии Народной Республики Ангола продолжают борьбу против отрядов раскольнических организаций и сил иностранной интервенции.
И все же спустя три дня в газете "Ригас балсс" появилась короткая заметка: "16 февраля на станции Югла произошла авария пассажирского поезда номер 37 "Балтика", следовавшего из Ленинграда в Ригу, в результате которой пострадал один пассажирский вагон. Имеются человеческие жертвы".
«В то время не писали ни об авиакатастрофах, ни о дорожных происшествиях. Если только что-то совсем очень крупное, то две-три строчки о самом факте», - вспоминает Сергей Булгаков.
"Я допускаю, что это было исключение, потому что такое количество жертв просто нельзя скрыть. О ЧП на железной дороге в прессе начали рассказывать только в конце 80-х, - говорит куратор экспозиций и выставок Музея истории Латвийской железной дороги Илзе Фрейберга. - О катастрофе на Югле потом написала газета Londonas Avīze, которую издавали в Великобритании. В декабре об этом написало издание Latvijas dzelzceļnieks trimdā. Они перепубликовали новость из Rīgas balss. Но поскольку все это не местные издания, то в них количество погибших выросло до 60, а пострадавших - до 200 и более".
Зато из газет можно было узнать о то, что совхоз "Рига" собрал первый урожай огурцов намного раньше, чем в предыдущие годы; что завершена программа совместного полета беспилотного корабля "Союз-20" и орбитальной станции "Салют-4"; во Франции вновь повышены цены на хлеб, а в ФРГ - на картошку и свежие овощи; а части армии Народной Республики Ангола продолжают борьбу против отрядов раскольнических организаций и сил иностранной интервенции.
И все же спустя три дня в газете "Ригас балсс" появилась короткая заметка: "16 февраля на станции Югла произошла авария пассажирского поезда номер 37 "Балтика", следовавшего из Ленинграда в Ригу, в результате которой пострадал один пассажирский вагон. Имеются человеческие жертвы".
«В то время не писали ни об авиакатастрофах, ни о дорожных происшествиях. Если только что-то совсем очень крупное, то две-три строчки о самом факте», - вспоминает Сергей Булгаков.
"Я допускаю, что это было исключение, потому что такое количество жертв просто нельзя скрыть. О ЧП на железной дороге в прессе начали рассказывать только в конце 80-х, - говорит куратор экспозиций и выставок Музея истории Латвийской железной дороги Илзе Фрейберга. - О катастрофе на Югле потом написала газета Londonas Avīze, которую издавали в Великобритании. В декабре об этом написало издание Latvijas dzelzceļnieks trimdā. Они перепубликовали новость из Rīgas balss. Но поскольку все это не местные издания, то в них количество погибших выросло до 60, а пострадавших - до 200 и более".
"Недоразвитая
станция"
станция"
"Все, кто жил рядом, знали, что каждое утро тут проходит скорый поезд "Балтика". У него еще разница в полчаса была летом и зимой. Говорили: странно, как они прозевали это? Везде была уже автоматика, а здесь они вручную стрелку переводили..." - вспоминает Лариса.
По словам куратора экспозиций и выставок Музея истории Латвийской железной дороги Илзе Фрейберги, к трагедии привел целый ряд факторов: «Если смотреть чисто технически, то виновны три работника, которые, насколько я понимаю из материалов дела, свою вину и не отрицают. Казалось бы, кого же здесь еще тогда винить? И здесь мы возвращаемся к вопросу: если бы все остальные обстоятельства были в порядке, можно ли было бы избежать трагедии?»

Как выглядел пульт управления дежурного на железнодорожных станциях. Автор А. Витолиньш, фото предоставлено Музеем истории Латвийской железной дороги.
В 1970-х годах железнодорожная станция "Югла" не была оснащена системой централизованного управления, необходимой для организации безопасного движения поездов. Между первым и вторым постами стрелочников было полтора-два километра, а до станции от каждого поста - 600-800 метров. При этом у дежурного по станции не было пульта управления, который позволял бы ему дистанционно следить за тем, что происходит на его участке. В итоге работники могли положиться только друг на друга.
"Централизация управления станций в то время проводилась, мягко говоря, странно. Например, на станции "Югла" централизованного управления не было, а на Рижской товарной станции, через которую не шли пассажирские поезда, централизация была", - рассказывает Фрейберга.
Еще одно обстоятельство, которое сегодня сложно представить – это отсутствие мобильной связи. То есть позвонить можно было только с поста. Если человек в этот момент находился на улице, то связаться с ним возможности не было.
"Централизация управления станций в то время проводилась, мягко говоря, странно. Например, на станции "Югла" централизованного управления не было, а на Рижской товарной станции, через которую не шли пассажирские поезда, централизация была", - рассказывает Фрейберга.
Еще одно обстоятельство, которое сегодня сложно представить – это отсутствие мобильной связи. То есть позвонить можно было только с поста. Если человек в этот момент находился на улице, то связаться с ним возможности не было.
Специфический фактор — изгиб дороги перед станцией. Если бы дорога была прямой, то за километр-полтора можно было бы увидеть, что идет поезд, и этого времени хватило бы нормально затормозить. Но машинист скорого поезда увидел, что навстречу идут локомотивы, лишь за 200-250 метров.
Свою роль сыграли и погодные условия: в тот день на улице было -5 градусов, шел небольшой снег. "Стрелка, которую нужно переводить вручную, действительно очень тяжелая. Работницы второго поста – это молодые девушки, старшей стрелочнице на тот момент было 23 года, младшей – 20 лет. Стрелку физически сложно перевести вручную, а тут она еще и замерзла", – поясняет представитель Музея истории Латвийской железной дороги. Дежурной по станции в 1976 году был 31 год.
"Согласно иерархии, дежурный по станции дает указания старшему стрелочнику, а он дальше - стрелочнику. Очень важно соблюдать эту схему. Стрелочник не имеет права действовать самостоятельно и делать то, что считает нужным. Все, что случилось в 1976 году на станции «Югла» - это прямое нарушение инструкции – указаний, требующих безоговорочного выполнения. Не зря есть поговорка, что железнодорожные инструкции написаны кровью», - говорит Илзе Фрейберга.
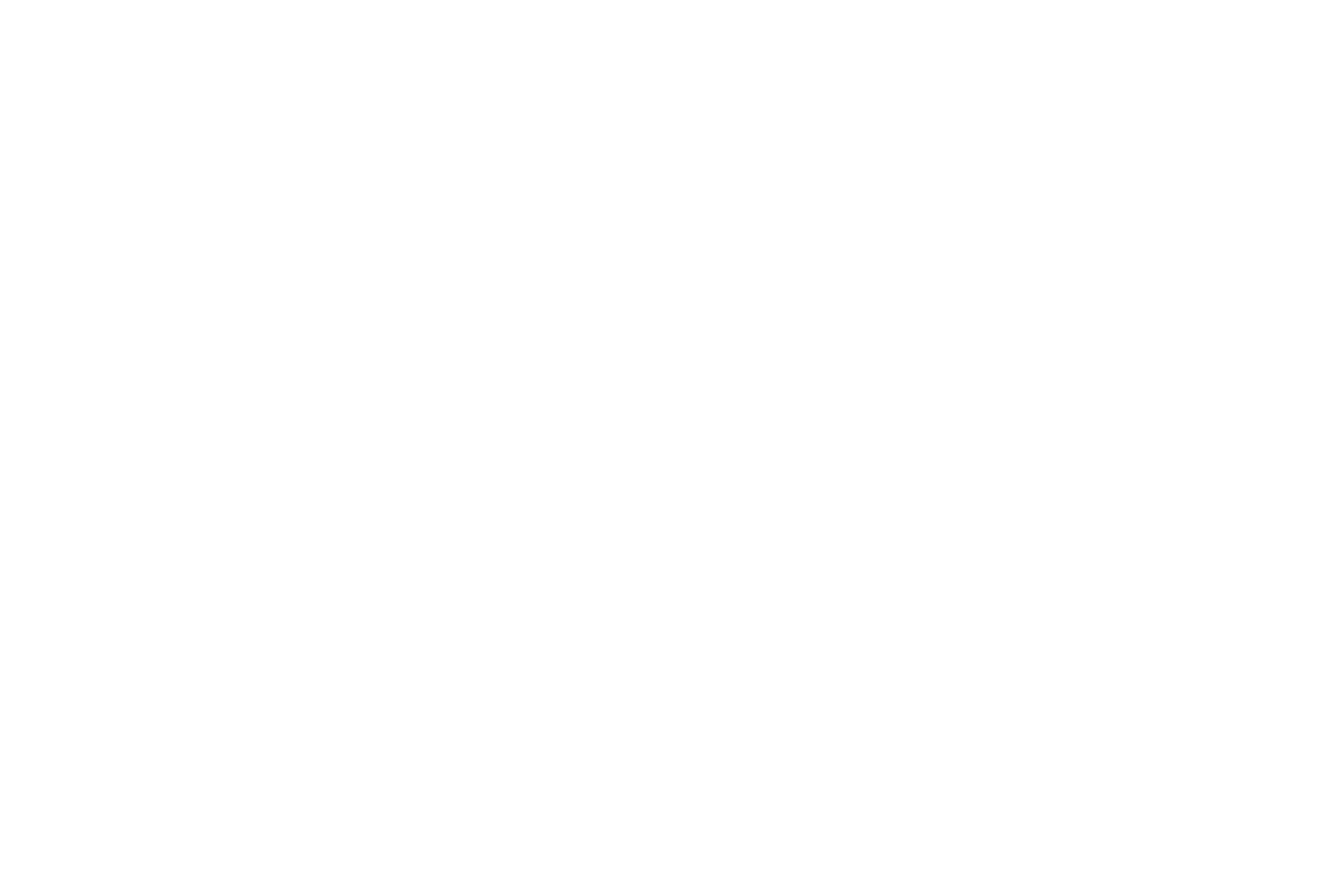
Здесь стоит остановиться более подробно, чтобы понять, почему мог быть нарушен регламент.
На станции "Югла" имелись серьезные проблемы с комплектацией штата, низкой квалификацией работников и дисциплиной. Младшая стрелочница, которая не смогла перевести замерзшую стрелку, работала неполный год. Из 13 работавших на станции стрелочников у девяти рабочий стаж был от восьми месяцев до 1,5 года. Только четверо были относительно опытными. Старшая стрелочница со второго поста занимала должность около трех лет.
"В ходе расследования выяснилось, что на этой станции были выговоры за нарушения дисциплины. За последние пять лет в отделе было три несчастных случая с участием пассажирских поездов. У младшей стрелочницы уже были дисциплинарные нарушения – выговор за неявку на работу, а также за то, что она неоднократно опаздывала. И это, напомню, за неполный год работы, - говорит Фрейберга. - Более того, в тот день она вообще не должна была выходить на работу. Это была не ее смена, но она договорилась с коллегой поменяться. Руководство, выгораживая себя, впоследствии назвало это "несанкционированным выходом на работу".
В Москву министру путей сообщения СССР об аварии докладывал начальник Латвийской железной дороги Нил Краснобаев. В своем сообщении он обобщил множество проблем: начальник по станции должен был своевременно реагировать на нарушения; имелись проблемы с низкой квалификацией и комплектацией штата стрелочников; руководство безопасности движения не уделяло достаточного внимания вопросам безопасности; недостаточное внимание было уделено работе по воспитанию; у начальника отдела была плохо организована работа; не проводятся планомерные мероприятия по повышению безопасности.
Также он указал на высокую текучку кадров. Это, по словам Фрейберги, легко объяснить: "Работа стрелочника – физически тяжелая, это работа низшей категории, которая высоко не оплачивалась и не котировалась. Работать на станции, где есть централизованное управление и автоматический перевод стрелок, гораздо легче и приятнее".
Кроме того, Краснобаев либо не услышал, либо не захотел услышать и другой аспект, который проявился в показаниях. Квалифицированные кадры не хотели работать на "Югле", потому что станция не могла предложить им жилплощадь. В советское время у работников железной дороги был свой жилой фонд, и часто люди шли работать на железную дорогу для того, чтобы получить квартиру. "Югла" не могла предложить квартиру, условия работы были далеки от идеальных - и в итоге, большая часть стрелочников на станции была студентами железнодорожных училищ.
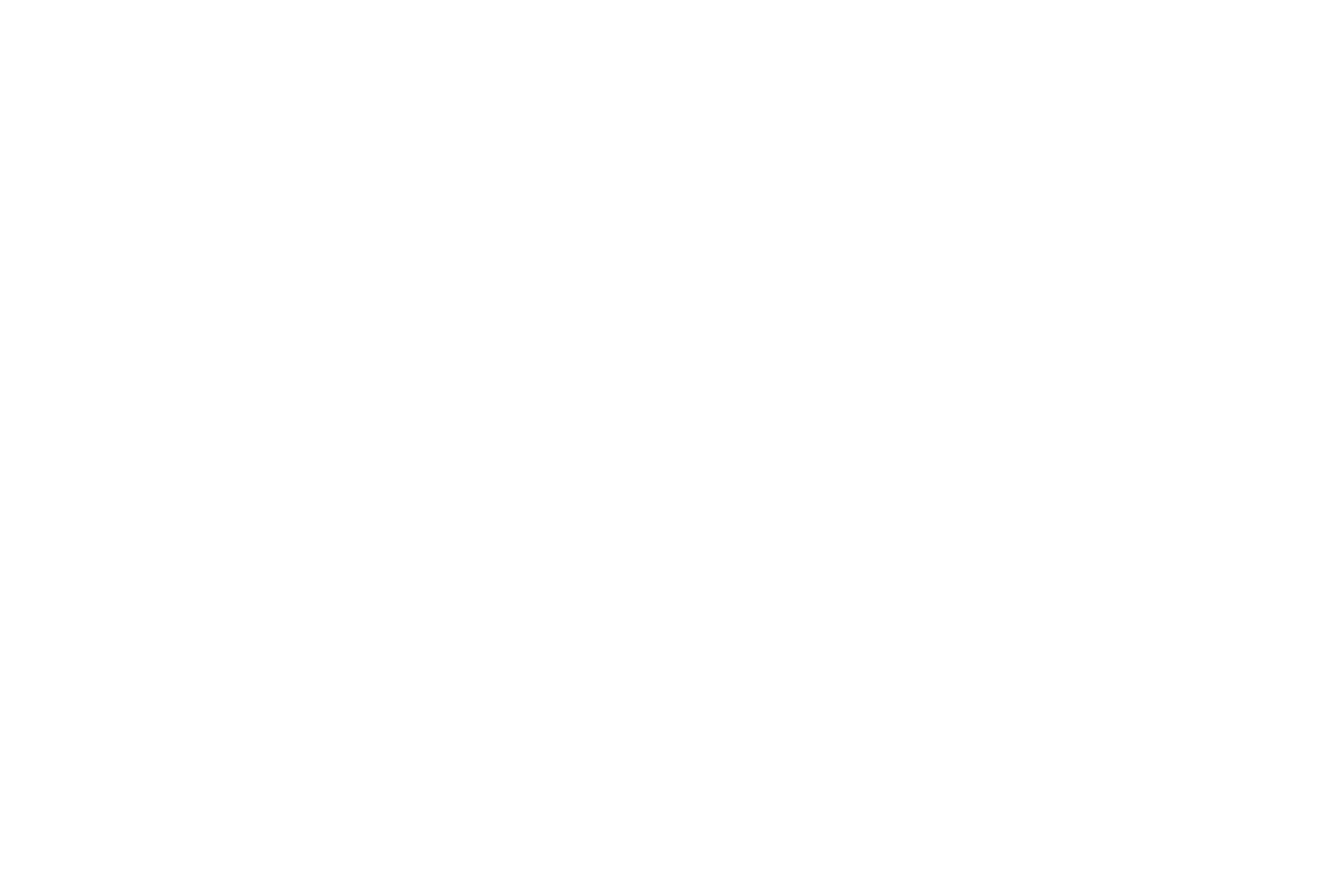
Свою роль, как утверждается в ряде источников, в то утро сыграл и языковой барьер. Дежурный по станции дает указание и получает информацию о ситуации на постах. При этом оба поста слышат друг друга. Первому посту говорят о 37-м поезде, на что он отвечает: «Путь готов и свободен». То же самое говорится и второму посту. В нормальных условиях они должны были среагировать на то, что на втором посту нарушен регламент – стрелочник не назвал номер поезда, не повторил услышанное. Но дело в том, что на первом посту стрелочник говорил только на латышском, а на втором – только на русском. Поэтому они не слушали и не понимали друг друга.
"Есть момент, который и следствие, и суд тогда не приняли во внимание, - заявила в интервью автору книги "Катастрофы века в Латвии" Гайтису Грутупсу осужденная дежурная по станции "Югла". - Конечно, его нельзя абсолютизировать, но, если уж начали говорить, то я бы хотела это напомнить. С дежурившим на первом посту старшим стрелочником (тот, который избежал наказания), я разговаривала и давала указания только по-латышски, потому что русского языка он не понимал. И наоборот, на втором посту ни одна из стрелочниц не понимала по-латышски, и с этим постом я разговаривала только по-русски. Технически мои переговоры с 1-м постом можно было слышать и на втором посту. Это помогло бы предотвратить трагическое недоразумение, которое привело к катастрофе. Однако был этот языковой барьер".
Работник прокуратуры (пожелал остаться анонимным), который непосредственно занимался расследованием, рассказал, что никакого языкового барьера не было. "Все трое отлично понимали друг друга. Не знаю, откуда вообще это пошло", - утверждал он.
"Пострадавших больше двухсот": история обрастает мифами
Так как официальной информации о трагедии практически не было, со временем она стала обрастать мифами. Сейчас уже трудно сказать, насколько они далеки от реальности.
Говорят, например, что в Ригу ехала группа курсантов из Ленинграда. Именно поэтому все последствия катастрофы были устранены так быстро, а родственникам оплатили похороны. Этой версии придерживается, например, Болеслав Гайлюш, который в то время работал начальником ремонтной бригады на станции "Мангали". Утром 16 февраля 1976 года он вместе с другими рабочими был направлен на "Юглу" приводить в порядок железнодорожные пути.
"Когда мы прибыли на «Юглу», там уже все было оцеплено. И милиция там, и военные. Страшная картина, очень страшная. Нас туда не пускали, разбитыми поездами занималась другая бригада. Скорые только успевали приезжать-уезжать. Нам сказали, что в вагоне ехали курсанты военного училища. Они через Ригу потом дальше должны были в Калининград отправиться, но почти все погибли", - вспоминает Гайлюш.
Говорят, например, что в Ригу ехала группа курсантов из Ленинграда. Именно поэтому все последствия катастрофы были устранены так быстро, а родственникам оплатили похороны. Этой версии придерживается, например, Болеслав Гайлюш, который в то время работал начальником ремонтной бригады на станции "Мангали". Утром 16 февраля 1976 года он вместе с другими рабочими был направлен на "Юглу" приводить в порядок железнодорожные пути.
"Когда мы прибыли на «Юглу», там уже все было оцеплено. И милиция там, и военные. Страшная картина, очень страшная. Нас туда не пускали, разбитыми поездами занималась другая бригада. Скорые только успевали приезжать-уезжать. Нам сказали, что в вагоне ехали курсанты военного училища. Они через Ригу потом дальше должны были в Калининград отправиться, но почти все погибли", - вспоминает Гайлюш.
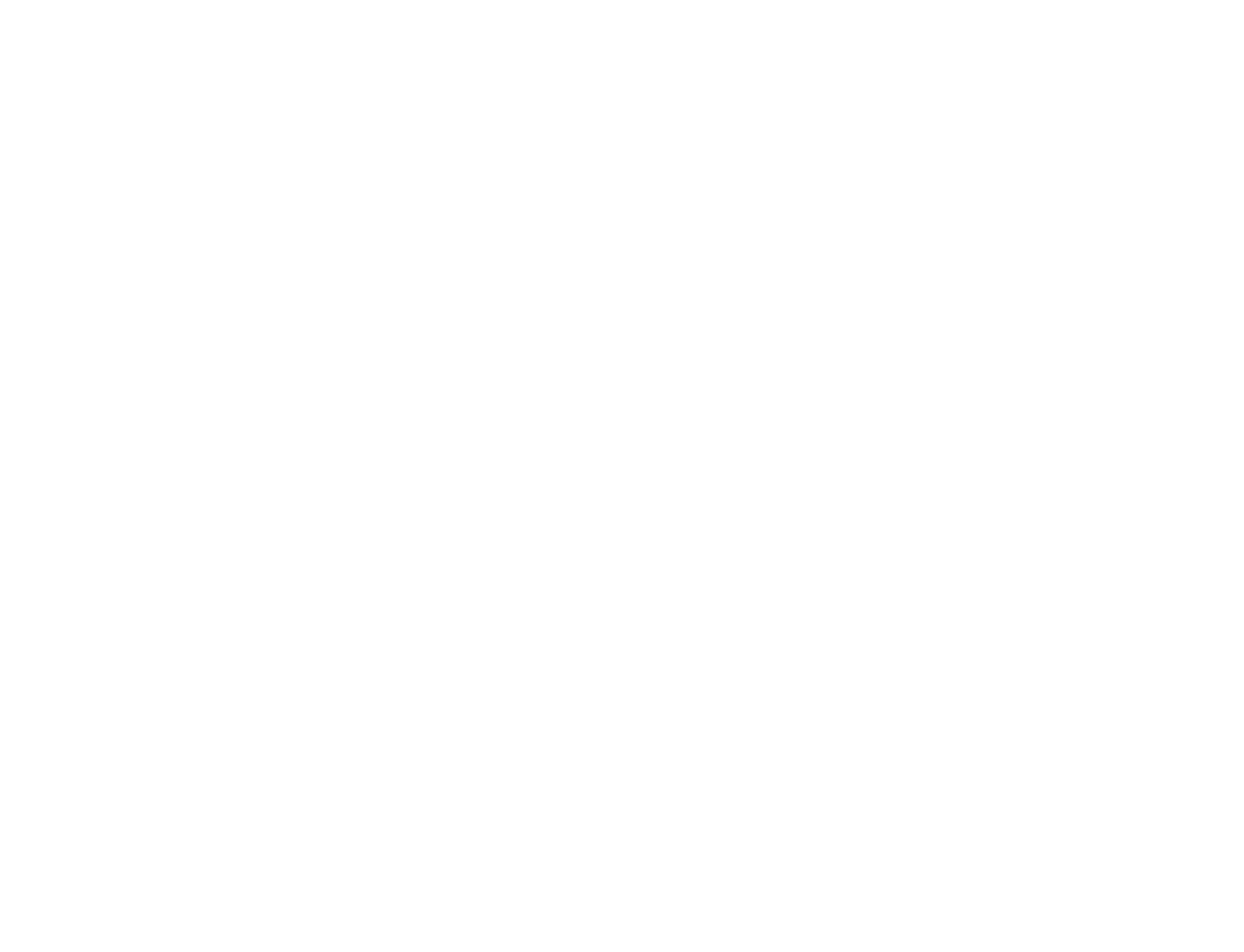
О том, что в раздавленном вагоне ехали курсанты, помнит и прожившая всю жизнь недалеко от станции "Югла" Дарья Белова. "Говорили, что там ехали курсанты то ли военного училища им. Бирюзова, то ли училища им. Алксниса, и героически себя проявили. Брат, как и все старшеклассники, бегал туда, а потом рассказывал родителям жуткие подробности. Меня выгоняли из комнаты, но что-то я подслушала. Там была "смятка" - хорошо помню это слово. У меня перед глазами стоят эти вагоны. После этого, когда мы куда-нибудь ехали на поезде, папа всегда говорил, что надо брать билеты в вагоны в середине состава. Я так с тех пор и поступаю".
"На самом деле курсантов не было. Были семь молодых капитанов и лейтенантов, которые погибли. Но нет свидетельств того, что они были из одного подразделения или ехали вместе, - поясняет Фрейберга. - Миф также состоял в том, что их было более двадцати. Но тогда мы бы это увидели по одинаковому году рождения. Но такого не было: жертвы очень разные, разных должностей и профессий, разного возраста, ехали из разных мест. К сожалению, самому маленькому погибшему было всего четыре года".
В 1998 году в газете Sestdiena вышла статья о железнодорожных катастрофах. В ней говорилось о том, что не сохранилось никаких документов и свидетельств о катастрофе и что о ней можно узнать только у соседей, который жили рядом. "Это тоже миф. Материалов, конечно, не так много, но они достаточно исчерпывающие", - говорит Фрейберга.
Нет никаких общих захоронений, здесь тоже нет никакой мистики. "В материалах дела сказано, что железная дорога возмещает приезд родственников в Ригу, транспортировку останков и покрывает расходы на похороны. Информации о выплате каких-либо других компенсаций в материалах дела нет", - отмечает сотрудница музея.
"На самом деле курсантов не было. Были семь молодых капитанов и лейтенантов, которые погибли. Но нет свидетельств того, что они были из одного подразделения или ехали вместе, - поясняет Фрейберга. - Миф также состоял в том, что их было более двадцати. Но тогда мы бы это увидели по одинаковому году рождения. Но такого не было: жертвы очень разные, разных должностей и профессий, разного возраста, ехали из разных мест. К сожалению, самому маленькому погибшему было всего четыре года".
В 1998 году в газете Sestdiena вышла статья о железнодорожных катастрофах. В ней говорилось о том, что не сохранилось никаких документов и свидетельств о катастрофе и что о ней можно узнать только у соседей, который жили рядом. "Это тоже миф. Материалов, конечно, не так много, но они достаточно исчерпывающие", - говорит Фрейберга.
Нет никаких общих захоронений, здесь тоже нет никакой мистики. "В материалах дела сказано, что железная дорога возмещает приезд родственников в Ригу, транспортировку останков и покрывает расходы на похороны. Информации о выплате каких-либо других компенсаций в материалах дела нет", - отмечает сотрудница музея.
Расследование: виновных нашли быстро
И служебное, и уголовное расследования были довольно быстрыми: они продолжались до лета 1976 года. По словам бывшего работника прокуратуры, расследование уголовного дела затянулось из-за большого объема работы. "Я был на месте крушения поезда в день катастрофы. Общая картина произошедшего была установлена достаточно оперативно, но требовалось провести тщательное расследование. Основная трудность заключалась в том, что это была крупная катастрофа, Транспортной прокуратуры тогда ещё не было, опыт расследования таких дел практически отсутствовал. Помню, что привлекались специалисты-железнодорожники для установления правил и инструкций, которые были нарушены. Подозреваемых установили сразу, и все трое были допрошены и задержаны", - заявил он.

Источник: Национальный архив Латвии, фонд "Управление Балтийской железной дороги и его подразделения"
Судя по материалам дела, комиссия по расследованию действительно быстро находит виновных. Дежурная по станции, старшая стрелочница и стрелочница со второго поста были уволены, а дело передано в суд. Все они были признаны виновными в нарушении правил техники безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в результате чего произошло крушение поезда, повлекшее тяжелые последствия.
18 января 1977 года решением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Латвийской ССР дежурная по станции Вероника С. получила девять лет заключения исправительно-трудовой колонии (ИТК) общего режима. Свою вину в содеянном она признала частично. В приговоре было указано, что: "...виновной себя не признает, т. к. действовала в соответствии с правилами безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта. Считает себя виновной лишь морально, поскольку не сумела предотвратить крушение поезда".
Старшая стрелочница Надежда Б. была приговорена к восьми годам ИТК общего режима. Согласно материалам дела, на момент катастрофы она воспитывала маленького ребенка и была беременна вторым. К моменту начала судебного процесса она снова ждала ребенка, по этой причине суд постановил отложить исполнение приговора.
Третья обвиняемая - стрелочница Галина С. – была осуждена на четыре года лишения свободы в ИТК общего режима. Обе стрелочницы полностью признали свою вину.
Кроме того, суд постановил взыскать в пользу Рижского отделения Прибалтийской железной дороги с осужденной дежурной по станции и старшей стрелочницы по 25 000 рублей, а со стрелочницы — 15 000 рублей. Согласно официальным данным, в 1976 году средняя зарплата в СССР составляла 139 рублей 84 копейки. В 1977-м она выросла на три рубля.
В отношении начальника станции С. Левитса состава преступления не нашли. Многие получили дисциплинарные наказания: были уволены, понижены в должности или получили строгий выговор.
18 января 1977 года решением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Латвийской ССР дежурная по станции Вероника С. получила девять лет заключения исправительно-трудовой колонии (ИТК) общего режима. Свою вину в содеянном она признала частично. В приговоре было указано, что: "...виновной себя не признает, т. к. действовала в соответствии с правилами безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта. Считает себя виновной лишь морально, поскольку не сумела предотвратить крушение поезда".
Старшая стрелочница Надежда Б. была приговорена к восьми годам ИТК общего режима. Согласно материалам дела, на момент катастрофы она воспитывала маленького ребенка и была беременна вторым. К моменту начала судебного процесса она снова ждала ребенка, по этой причине суд постановил отложить исполнение приговора.
Третья обвиняемая - стрелочница Галина С. – была осуждена на четыре года лишения свободы в ИТК общего режима. Обе стрелочницы полностью признали свою вину.
Кроме того, суд постановил взыскать в пользу Рижского отделения Прибалтийской железной дороги с осужденной дежурной по станции и старшей стрелочницы по 25 000 рублей, а со стрелочницы — 15 000 рублей. Согласно официальным данным, в 1976 году средняя зарплата в СССР составляла 139 рублей 84 копейки. В 1977-м она выросла на три рубля.
В отношении начальника станции С. Левитса состава преступления не нашли. Многие получили дисциплинарные наказания: были уволены, понижены в должности или получили строгий выговор.
Согласно материалам дела, материальные убытки составили 342 000 рублей. Из них большая часть относится к подвижному составу: были полностью списаны один локомотив и один пассажирский вагон, одной из секций локомотивов и двум пассажирским вагонам требовался серьезный производственный ремонт. Неполная тысяча рублей ушла на приведение в порядок дороги.
"Примечательно, что несмотря на то, что это была крупная авария, в расписании движения поездов не произошло никаких сбоев и изменений. Судя по всему, это стало возможным из-за того, что вагоны остались стоять на рельсах и другие составы можно было пускать по свободным путям", - говорит Илзе Фрейберга.
667,5 рублей – это расходы на специальный поезд, который прибыл ликвидировать последствия аварии. В обозначенную сумму входили расходы на продовольствие (тушенку, макароны, хлеб и т. д.), сигареты, кофе, топливо, рабочие перчатки, а также зарплата. "Железнодорожные аварии всегда нужно ликвидировать максимально быстро. Главная задача – устранить последствия и возобновить безопасное движение. Именно поэтому ликвидация железнодорожных аварий происходит круглосуточно до тех пор, пока работа не будет закончена, – говорит Фрейберга. – Когда знакомишься с материалами дела и видишь, что на одной странице перечислены жертвы трагедии, а на другой – расходы на тушенку, то это может показаться диким. Но нужно учитывать, что дело напоминает бухгалтерский отчет. Главные вопросы, на которые искали ответы: что и где произошло, кто виновен и какой ущерб нанесен. Также нужно иметь в виду, что большая часть материалов – это заполненные формы. Поэтому перечисление очень технично".
Через неполных два года с момента трагедии на станции "Югла" наконец была введена электрическая централизация, были пересмотрены и обновлены инструкции.
"Примечательно, что несмотря на то, что это была крупная авария, в расписании движения поездов не произошло никаких сбоев и изменений. Судя по всему, это стало возможным из-за того, что вагоны остались стоять на рельсах и другие составы можно было пускать по свободным путям", - говорит Илзе Фрейберга.
667,5 рублей – это расходы на специальный поезд, который прибыл ликвидировать последствия аварии. В обозначенную сумму входили расходы на продовольствие (тушенку, макароны, хлеб и т. д.), сигареты, кофе, топливо, рабочие перчатки, а также зарплата. "Железнодорожные аварии всегда нужно ликвидировать максимально быстро. Главная задача – устранить последствия и возобновить безопасное движение. Именно поэтому ликвидация железнодорожных аварий происходит круглосуточно до тех пор, пока работа не будет закончена, – говорит Фрейберга. – Когда знакомишься с материалами дела и видишь, что на одной странице перечислены жертвы трагедии, а на другой – расходы на тушенку, то это может показаться диким. Но нужно учитывать, что дело напоминает бухгалтерский отчет. Главные вопросы, на которые искали ответы: что и где произошло, кто виновен и какой ущерб нанесен. Также нужно иметь в виду, что большая часть материалов – это заполненные формы. Поэтому перечисление очень технично".
Через неполных два года с момента трагедии на станции "Югла" наконец была введена электрическая централизация, были пересмотрены и обновлены инструкции.
Безопасность — превыше всего, но от ошибок никто не застрахован
За 45 лет с момента катастрофы железная дорога проделала большую работу, чтобы максимально обезопасить инфраструктуру. Как рассказала представитель Latvijas dzelzceļš (LDz) Элла Петермане, предприятие несет ответственность за доступность публичной железнодорожной инфраструктуры на территории всей Латвии. "С момента трагической аварии прошло почти полвека, в течение этого времени развивались технологии, сделан значительный вклад в профессиональный рост работников железной дороги, а также стало доступным финансирование из фондов ЕС на проекты по модернизации инфраструктуры. Ежегодно проводится оценка железнодорожной инфраструктуры и работы по ее улучшению", - отметила Элла Петермане.
По ее словам, важное значение имеют реализованные в последние годы работы по модернизации инфраструктуры: происходит замена стрелочных переводов, укладка длинных рельсов, улучшена безопасность на переездах и переходах, создана система видеонаблюдения - в результате создана качественная и конкурентоспособная железнодорожная инфраструктура. "Большинство процессов автоматизировано и благодаря современным технологиям непрерывно контролируется - в случае если констатирована ошибка, об этом незамедлительно сообщается", - пояснила представитель LDz.
Железнодорожная станция "Югла" работает и по сей день - как для посадки и высадки пассажиров, так и для простоя вагонов и различных операций с составами. Постов стрелочников на улицах Маркалнес и Балтэзера больше нет, все процессы давно автоматизированы.
“
"Мне очень трудно говорить о катастрофе. Мне приходится нести это бремя всю жизнь, — с горечью говорила дежурная по станции "Югла" в интервью Гайтису Грутупсу. — В той ситуации я была командиром, которого подвели подчиненные. Техника у нас тоже была устаревшая — никакой автоматики, которая бы показывала диспетчеру на пульте, какой путь свободен, а какой занят. […] Что тут еще добавить? От тяжелых ошибок никто не застрахован. И вы тоже".
В статье использованы материалы Латвийского Национального архива, Музея Истории Латвийской Железной Дороги, Latvijas dzelzceļš, кадр из фильма "Два билета на дневной сеанс", periodika.lv, фото из личного архива.