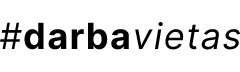Почему Кабирия дура
– Что вы сами думаете об этом спектакле?
– Он был просто необходим нашему театру. "Кабирия" объединила всю труппу, так же как это когда-то сделала "Керри". Когда работали над спектаклем, все буквально ходили окрыленные.
– Почему же так разделились мнения в его оценке?
– Хороший театр — это как одежда pret-a-porte. На нее смотрят так же: боже, что это, кто бы это надел! А через год-два — носят. Потому, что пришла мода. Настоящий театр идет впереди того времени, в котором существует. Вот и относительно "Кабирии" — подобного в нашем театре еще не было. Это новая работа во всех отношениях, включая и зрительское. Алла Сигалова говорила: представьте себе, что это планета, на которой все ходят боком. Они не задумываются над тем, удобно это или не удобно — они просто такие. Клоуны с людскими страстями. Читала в прессе: зачем они лица такие себе страшные сделали? Почему Кабирия — такая дура? Да потому что дура и есть! И если вы это заметили, значит, молодец — правильно поняли. А насчет лиц — это факт: итальянские проститутки так и выглядели. Рукой о штукатурку, мазали белилами лицо, черным подводили глаза и губы и выходили на улицу.
– При таком трепетном отношении к "Кабирии" газетные рецензии, наверное, не очень приятно было читать?
– Да, но, в принципе, я стараюсь не обращать на них внимания. На "Пиаф" Виктюка было максимум полторы хвалебные статьи, а спектакль потом завоевал все звания, которые только было можно: лучший спектакль, лучшая роль, лучший режиссер, еще какие-то. Для меня намного ценнее мнение других людей. Услышать "Браво!" от своих коллег — это дорогого стоит. Когда маститые, повидавшие все, что можно, актеры после своей сцены не уходят курить или в буфет, или еще куда-нибудь как обычно, а за кулисами из спектакля в спектакль ждут, как именно я сегодня произнесу: "Покажите фотку!" — это самая приятная оценка. А пресса пусть себе печатает, что ей хочется.
– А вообще часто ли приходится слышать со стороны, "как надо играть"?
– Сейчас я обсуждаю это только с людьми из театра или с теми, в ком заранее уверена, что он в театре разбирается. Иначе, чтобы разговаривать на одном языке, беседу надо начинать с самых азов. Просто трепаться со всяким, кто пожелает поговорить "о высоком" — надоело. Может, поэтому у меня не так уж много друзей вне театра.
Внутренне — только матом
– Вы по-прежнему считаетесь в ТРД молодой драматической актрисой?
– Молодой, наверное, а драматической — не согласна. Одна из самых любимых ролей, например, это прислуга Луша в "Тяжелых днях" Островского. Вообще, люблю дурачиться. В "Кабирии" просто отрываюсь в этом смысле.
– Там вы и матом ругаетесь, мне рассказывали…
– Не матом! Вот так и начинаются слухи. Я говорю там: "Обоср…ся!" Хотя и к мату, если по делу, отношусь терпимо. Семен Михайлович, человек крайне, кстати, щепетильный в отношении русской речи, еще на первом курсе нам говорил: роль ролью, но внутренний монолог, который в этот момент ты про себя произносишь — это всегда мат. Ты ж не думаешь: "Ах, какой он нехороший действительно человек оказался!" Ты по-другому думаешь.
– Конечная цель внутреннего монолога — это проявление нужных по роли эмоций?
– Да. Актер должен приучить свои эмоции, включая самые негативные, к тому, чтобы они у него в нужный момент проявлялись на сцене. За несколько секунд довести себя до того, чтобы все поверили, что у тебя большое несчастье — это не просто вспомнить о собачке, которую ты в детстве потерял. Со временем это становится твоей даже не привычкой, а чертой характера. Даже в самые свои плохие моменты жизни автоматически стараешься запомнить: как ты себя довел до такого состояния, что сделал, чтобы тебе было так плохо.
– Так же можно и до депрессии "доиграться"?
– Потом важно выйти из этого состояния — иначе, правильно, начнется патология. Надо различать, когда ты играешь, а когда живешь.
– Какие еще опасности есть в вашей профессии?
– Если постараться, то и убиться можно. В "Керри" есть сцена, где я поднимаюсь по лестнице. И вот мне купили тапочки для спектакля — новые, красивые, золотые. Проверить их не успела — надела, вышла играть. А они, оказывается, скользят. Сама не поняла, что происходит: вдруг Чернявский что-то мне кричит, Гроссман ко мне бежит со всех ног. Он потом рассказывал, что у него в голове пронеслось. "Смотрю — Ника бежит. Колготки красные, трусы почему-то торчат… Б…!!! Да она же падает!" Перекувырнулась, поймали меня только внизу. Удар получился что надо. Паулс от неожиданности ноты перепутал. Чернявский меня ощупывает — как там ребра. У него брат — врач-гинеколог, так что и он в медицине тоже кое-что понимает (смеется). Потом отпустил меня, начал плакать. А после спектакля я узнала, что примерно в это же время у меня умерла бабушка. Может быть, это она меня поймала — не знаю.
Раввином не стану, буду швеей
– Не собираетесь уйти петь в эстраду, туда, где большие деньги?
– Больших денег очень хочется (смеется), но пока что — нет. Почему многие эстрадные певцы так стремятся играть в театре? Потому, что он дает больше. После театральной сцены просто петь, без образа — неинтересно. А вывести Керри или Кабирию, как они есть, на эстраду — это довольно странно будет смотреться. Вот мечтаю обучиться на швею. Может, это и по-детски, но мне нравится как-то править людей, делать их красивее. Но этим заняться никогда не поздно.
– Что еще дает театр, чего не найти на эстраде?
– Сам процесс работы с режиссером. Если режиссер личность, то от него все заряжаются энергией, его ощущением мира, чувственностью, которая присуща только ему. Алла Сигалова, например. Мне очень нравится чувствовать то, что чувствует она. Почему вообще кому-либо нравится работать в театре? Потому что чужие эмоции становятся твоими — ты растешь, палитра твоих духовных ценностей постоянно обогащается. То же и со знаниями происходит: каждый спектакль — это много нового. Когда ставили "Дибук", я столько узнала про иудаизм, что будь мужчиной, могла бы раввином подрабатывать. После "Кабирии" в более широком понимании, чем раньше, открыла для себя Феллини — все время что-то узнаешь.
– Что, кроме Феллини, открыли для себя в этом сезоне?
– Открытие этого года — стихи Елены Сиговой. Их можно услышать в "Кабирии" и "Дибуке". Очень театральные стихи, с очень точными образами, в них есть что играть. На репетиции "Дибука" в одном и том же месте, на одной и той же строчке — начинаю плакать. Что-то цепляет. Спросила Лену: в чем дело, что ты туда такое вложила? А-а, говорит, почувствовала? Это и есть театральное искусство — и драматурга, и режиссера, и актера — заставить зрителя чувствовать то, что чувствуешь ты.